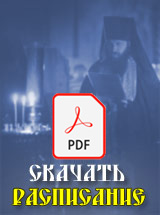| По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна |
От чего происходит наше веселие – от того ли, что Христос воскрес

Протоиерей Георгий Митрофанов | 7 апреля 2018 г.
Многие годы своей жизни, практически с юности, я испытывал сложное чувство в связи с тем, что одним из моих любимых писателей был Антон Павлович Чехов. Чем глубже происходило мое воцерковление, тем больше я испытывал внутренний конфликт. Я любил писателя, ощущал близость многим темам его творчества, его подходу к миру.
Вместе с тем по мировоззрению Чехов, хорошо знавший церковную жизнь, был одним из самых чуждых Церкви писателей в русской литературе.
Шли годы, я продолжал находиться во внутреннем конфликте. Даже пытался критиковать Чехова с позиции церковного традиционализма. Вдруг знакомство с «Дневником» отца Александра Шмемана освободило меня от моего комплекса.
Надо сказать, что Шмеман тоже высоко ценил Чехова, не боялся в этом признаться ни самому себе, ни окружающим. Он подметил черту, которую я сам у Чехова не обнаружил. Отец Александр Шмеман, знавший и русскую литературу, и православную литургику, обратил внимание, что Чехов – единственный писатель в нашей литературе, который нигде не допустил ни одной ошибки в описании богослужения.
Безусловно, на это повлияло детство Чехова, его религиозное воспитание с пением на клиросе и помощью в алтаре. Из воспоминаний самого Чехова многие помнят пассаж, в котором Антон Павлович описывал, как окружающие с умилением смотрели на него и его братьев. Они казались всем ангелами, но в душе этих ангелов происходила буря негодования и возмущения от того, что им приходится петь на клиросе.
Отец Александр Шмеман освободил меня от комплекса вины за то, что я люблю Чехова. Он показал, что наиболее воцерковленный по своему жизненному опыту писатель говорит очень печальные слова о нашей религиозной жизни. И я сам стал довольно много говорить на эту тему.
После одной из пасхальных служб в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где я настоятельствую, вдруг неожиданно я вспомнил рассказ Чехова «Святой ночью». В нем описывается пасхальное богослужение в монастыре. Это долгий и глубокий текст, от чтения которого вы получите удовольствие. Не стану его пересказывать. Единственная тема, которую хочу обозначить – тема вдохновенного празднования Пасхи и гуляний, которые начинаются в рассказе тут же, от стен монастыря.
Чехов мастерски показывает поразительное равнодушие и холодность участников праздника к конкретным людям, в частности, к только что умершему иеродиакону Николаю и паромщику послушнику Иерониму.
Я вспомнил рассказ в памятную для меня пасхальную ночь и тут же в заключение службы, когда были произнесены главные слова «Христос воскресе» и услышан на них многократный ответ «Воистину воскресе», когда возникло чувство исполнения самого главного праздника и пасхальной Евхаристии, к которой приобщились почти все прихожане, я вдруг задал вопрос присутствующим:
«Давайте всерьез задумаемся, а отчего происходит наше веселие? От того ли, что Христос воскрес? Или от того, что пост закончился? И уже можно стать самими собой. Поесть сытно и вкусно. Выпить вдохновенно и просто, наконец, начать жить, а не размышлять о Христе».
Мне тогда подумалось, что размышления о Христе – это размышления о наших ближних. И если мы вдруг перестаем думать о Нем, значит, перестаем и не думаем больше о ближних. На пасхальной службе воспоминание об этом чеховском рассказе поставило меня перед серьезным вопросом, до которого я сам дошел, прослужив на тот момент около двадцати лет.
Но этот вопрос и сейчас, когда исполняется тридцать лет моего священнического служения, занимает меня больше и больше. В чем суть нашей пасхальной радости?
SOURCE: http://www.pravmir.ru
07.04.2018
| << Назад к списку | | Просмотров: 428 |
Войти, чтобы оставить комментарий.
Не покушайся разрешить дело темное и запутанное посредством спора, но молитвою и непоколебимой надеждой.
| © 2005 – 2026 Адрес храма: 308015 г. Белгород, Университетская пл., 1. тел.: (4722) 30-14-70; E-mail: hram@bsu.edu.ru |